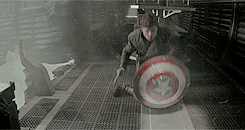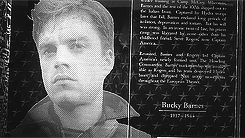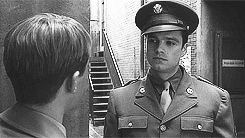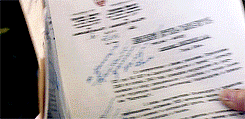[AVA]http://33.media.tumblr.com/5231c0284e608fd8a5b24d3e04665b86/tumblr_ns3eywSjEV1rshcq9o8_r1_250.gif[/AVA][SGN]
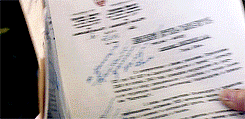 [/SGN]
[/SGN]
Нам война обещает, что долгою будет дорога,
Старит девичьи лица, коптит паровозные лбы.
Кто-то ходит под Богом, а кто-то уходит от Бога,
Но никто не уйдёт от всеобщей солдатской судьбы.
Я б военный билет променял на билет довоенный,
Выпил времени море и сушей вернулся б назад...
Но как гомон вокзальный сливается с гулом вселенной,
Так и я прирастаю к войне - у тебя на глазах. | 
|
У Баки Барнса личный номер на груди, отчеканенный на солдатских медальонах, которым он гордится. И еще один – на левой руке, вытатуированный клеймом, о котором он предпочитает не вспоминать. Баки пока не знает, что это всего лишь первая абсолютно бездушная замена его имени. Первая попытка стереть его из него же самого. Памяти, жестов, взгляда и улыбки. В том номере значится страна заключения, раса, пол и приговор. Для чего годен этот бывший человек, как его используют во благо великой идеи, великой расы, Германии, Гитлера, ГИДРы или еще чего-то. Сможет ли он изготавливать детали для оружия, пригоден ли он для экспериментов – и для каких. Там было очень страшно. Баки не хочет вспоминать. Баки упорно улыбается и выбрасывает из головы стылый ужас и номер с левой руки. Он больше не заворачивает рукава и старается не смотреть на новую татуировку. Вот только появилась привычка неосознанно потирать ее, когда в голову лезет всякое. Усталый взгляд Сары Роджерс, упрямо сжатые губы Стиви, еще совсем маленького; яркая улыбка близняшки, ее свадьба. Родители и еще совсем бестолковые мелкие. Баки вспоминает мирную жизнь и знает, что непременно вернется.
Баки не может иначе. Барнс уверен в этом, потому что иначе слишком безнадежно. Он не сумеет справиться без этой надежды. Она позволяет ему выживать. Не дает сломаться, просто взять нож и пойти в полный рост, не скрываясь, лицом к лицу в следующей безумной атаке. Так, как очень хочется в особо дурные минуты. Например, сейчас. Пуля в сердце – не так уж и плохо. Быстро и не оставляет ни малейшей возможности думать и ни малейшей возможности попасть обратно. У Баки Барнса нет на это права. Не из-за страны или долга, эта страна сама решила влезть в чужую войну на других континентах, и Барнс слишком умен, чтобы не понять, что это не просто ответ на одну атаку. Это – возможность стать сильнее и влиять не только на Соединенные Штаты. На весь мир. Баки ненавидит такие мысли, но Барнс слишком четко помнит слова того человека. Он мучил, резал, пытался чего-то добиться – и все время говорил. Барнс не хочет находить в его словах смысл; но он не может не думать. Барнс говорит себе, что все это ложь. Но слова этого человека настолько пропитаны чувствами и уверенностью, что не поверить, хотя бы на миг, невозможно. Баки Барнс ненавидит себя за это и повторяет себе, что какие бы мотивы не стояли за решениями политиков, они в кои веки оказались правы. Потому что нельзя такое допускать. Нельзя, чтобы люди становились подопытными крысами и грязью под ногами; нельзя, чтобы все решала вера и национальность. И вот в это Баки Барнс действительно верит всем сердцем; это единственно важное, но почему-то не получается как прежде верить в агитационные плакаты и хорошо поставленные голоса по радио. Баки Барнс понимает, что верит не в них и не в Америку. Баки Барнс просто сдружился с людьми, в чей дом пришла война.
И это одна из причин, почему у него нет права сдаться. Этим людям, этим странам нужна помощь; и плевать, что изначально заставило протянуть руку им Америку. Это правильно. А политика? Что ж, это не его дело. И думать об этом некогда. И думать об этом вообще – неправильно. Это все просто злость и отчаяние, когда лежишь на узком, холодном столе, а за тобой не приходят – и не придут, это понятно даже в том бредовом состоянии, когда и мыслей почти нет. Не придут, потому что стоить это будет гораздо больше жизней. Потому что они слишком далеко, в Австрии. Просто потому что это бессмысленно. А вспоминается дом, Нью-Йорк, яркая выставка, Конни и ее улыбка. Ее радость и безмятежность. Дома войны нет. И оставшаяся надежда ранит. Наносит тонкие, набухающие кровью раны, как те, которыми доктор проверяет… проверяет что? Баки тогда не запомнил, а теперь не важно. И надежда ранила сильнее. Она не давала приблизиться Смерти, которая так кокетливо смотрела на него с потолка. Надежда, как всегда, оставалась до последнего. И по какой-то причуде Бога, дьявола или магии, в которую так верит мама, надежда оправдалась.
У Баки нет права умирать. Его ждут дома, правда, ждут. Пусть даже не дождется удивительная, маленькая и такая волшебная Конни, а Барнс, кажется, начал ее идеализировать или правда влюбился. Только в этот раз по-настоящему. И ему больно думать, он хочет, чтобы Конни Освальд его дождалась, но даже если нет – своего Джеймса всегда будут ждать мама и Ребекка. А Конни… Конни пусть будет счастлива. Улыбается для него и хотя бы помнит. Боже, как же это ему нужно. Чтобы его просто помнили. Именно его, а не кого-то другого. Не смешного и нелепого персонажа из агитационных комиксов, не «того самого друга Капитана Америка». Просто его. Барнсу кажется, что его почти не осталось. Что он и правда стал тенью своего мелкого придурка, который не мог пройти по улице, не нарвавшись на неприятности.
И поэтому у него тоже нет права идти на верную смерть, высоко подняв голову, забыв главное правило любой войны – выжить. Пока жив, ничего не кончено и все еще будет хорошо. В их отряде и так сумасшедший командир. Который может себе позволить идти так. А Баки не может. Баки умрет и Стив умрет тоже – что, он не знает, что бестолкового этого придурка невозможно переупрямить, а возможно лишь уговорить слегка скорректировать путь? На войне чистые умирают. На войне надо помнить главное правило и быть хитрее. На войне Баки научился бить в спину и резать чужие шеи от уха до уха недрогнувшей рукой. Не задумываясь и не сомневаясь. Только жалко, что пойло на войне – даже не алкоголь, напиться совершенно невозможно.
Баки не умрет. Потому что иначе Стив точно уйдет в самоубийственную атаку и хорошо, если погубит только себя – а ведь есть еще ребята. Коммандос, которые часто ругаются, которые ругались всегда, и в камере тоже. И которые даже в лагере сумели объединиться, когда Барнсу было паршиво настолько, что он думал, что умрет от банальных побоев и пневмонии. Барнс, наверное, тоже за них ответственен. Точнее, он сам взвалил на себя ответственность за них, как привык всегда – со Стивом, с сестрой, с мелкими. Барнс слишком устал. Господи, так устал.
Со Стивом никогда нельзя было бодаться напрямую. И Стив, если честно, никого не слушал. Никогда. Даже свою мать. Даже его. Только если иногда. И Барнс не дурак, Барнс знает, почему его даже не обследовали в госпитале толком. Баки периодами кажется, что проще наорать и заявить, что он не страховочный трос и не тормоза для капитана. Баки, конечно же, молчит. Это ведь приятно, когда от этого не устаешь так сильно. Барнс знает, что их отряду дана невероятная свобода – и знает, что не раз убеждал капитана быть осмотрительней. Это все знают. При нем не стучат в парадные двери врага, а находят способы безопаснее. Баки любит Стива и уважает его ум, храбрость и принципы. Но принципы Стива не для этой войны – они для Крестовых походов и времен короля Артура. Когда не было ружей, и все стояли лицом к лицу с мечами наголо. Стив слишком благороден для этой грязной войны. Сержанту хочется от этого выть, потому что все говорит, что такие и так долго не живут. Сержант верит в своего капитана. Потому что Стив – может. Потому что со Стивом происходят чудеса, как с тем, чья вера, упорство и благородства призывают чудеса. Барнс не слишком верит в Бога, но сейчас верить хочется. Пусть даже во время – и после этой войны останется что-то благородное. А не только умения снайпера попасть в голову с расстояния в двести пятьдесят метров.
Баки Барнс не дает себе права умереть. Последствие этого выбора смотрит на него сейчас изучающими, ледяными глазами. Его глазами.

| 
|
Баки Барнс вздыхает. Баки Барнс откидывает свою маску «Баки» и вспоминает, что Джеймс Барнс бывает серьезным, нервным и что ему бывает очень страшно. Как сейчас. Что у Джеймса не всегда все хорошо, хотя и кажется, именно так, когда смотришь на улыбку Баки. Баки – это часть Джеймса. А Джеймс – часть его? Этого странного кривого отражения? Джеймс почему-то очень легко принимает, что это не розыгрыш и не чья-то дурацкая шутка. Джеймс думает сначала, что это галлюцинация. Если честно, он продолжает так думать и сейчас, просто вроде бы не с чего. Даже головой давно не ударялся и не ел грибов, вот честное слово. Джеймс криво улыбается и убирает нож почти синхронно с другим. Он – кто? Морок? Или и правда, самая нелепая догадка? Его будущее. Барнс не должен, но он почему-то предельно четко знает. Да. Это будущее. Это просто он. Тот, кем будет Джеймс Барнс. И на вид – совсем скоро.
Кажется, война поменяет его сильнее, чем кто-то мог предположить. Барнсу это не нравится, он недовольно хмурится, пристально разглядывая, получается, что себя. Ему на вид не больше тридцати – может, тридцати двух. У него странная рука, будто обернутая фольгой или металлом – не может быть, чтобы искусственная, она же двигалась! Даже Старк такого не может! – и сержант удивленно, пристально ее разглядывает. Потом отмечает странную одежду, нелепую прическу, вот ведь лохматый, неудобно же и некрасиво. И плечи шире, чем у него, ненамного, но заметнее. А движения – плавные, спокойные. Джеймс смотрит в свое будущее, но упорно не поднимает взгляд на лицо. Он уже видел. Ему не понравилось. Джеймс знает, что глупо делить себя на имена, но «Джеймс» - это имя с детства для серьезных случаев, расстроенной мамы и гордого отца. Ближе, понятнее короткое «Баки». Теплее и оптимистичнее.
Но на самом деле, их нет. На самом деле, есть просто человек, как бы его не называли. И сейчас, оказавшись лицом к лицу с собой – пусть это галлюцинация, пусть, но сейчас все слишком реально. Сейчас Барнс знает, что различий нет. И имена – это пустой звук. Так же, как пересохшее горло и растерянность. Это бестолково, это ни к месту и попросту неважно. Только для Баки оно всегда было. Он хотел быть Баки, потому что Баки все любят. Даже когда ему доставалось от шпаны и жизни, все равно любили. А так не бывает.
Глядя в равнодушные, но с каким-то странным любопытством и усталостью глаза напротив, Барнс понимает, что, да, так не бывает. И понимает, что ему, кажется, станет на это наплевать. Джеймс узнает свою усталость, которую он пока еще видит очень редко и чаще после кошмаров о маленьком докторе. Джеймс смотрит в глаза Джеймса, наконец, и видит там слишком много. Он задыхается, тонет от этого. Он просто не хочется знать, хотя и заворожен. Напротив него слишком много не понятного; сержант Барнс себя узнает и в то же время не узнает совершенно. Сейчас и здесь бессмысленно лгать, кричать или пытаться что-то изменить. Барнс выдыхает почти судорожно. Он что, все это время не дышал? Это были секунды? А кажется, часы.
Джеймс садится на пустой железный ящик, на мгновение задаваясь вопросом, откуда он тут и что в нем было? А потом выбрасывает из головы и просто смотрит. На себя. Или не на себя. На того, кто так беспардонно и оценивающе смотрит на него самого. Барнс чувствует угрозу и опасность, он настороже. На войне в принципе нельзя расслабляться, но сейчас – особенно. Барнс почему-то уверен, что ему не будут лгать, если он спросит. Джеймс понимает, что это самое страшное.
Барнс устало трет глаза. Это слишком. Это – уже – слишком. Хватит, у него нет права умирать. И у него нет желания становиться человеком напротив с глазами какого-то хренова хищника. Джеймсу страшно, потому что иногда он замечает, как пугаются люди, когда они на очередном чертовом задании с очередными чертовыми слишком важными целям, хотя хочется спать, а нужно быть сосредоточенным. Тогда исчезает все, кроме путей, по которым цели эти долбанные можно достичь. Тогда на него с опаской смотрит даже Тим, а Дум-Дум всегда был, на деле, самый по-житейски мудрый и понимающий. Неужели он действительно видит там это? Джеймсу на мгновение становится настолько страшно, что он почти забывает обо всех своих «должен». А потом ему становиться все равно. Он устал. Уже устал. Когда же можно будет отдохнуть?
Сержант Барнс обнимает руками колено, откидывает голову, пару секунд смотрит на небо. И закрывает глаза. Какая разница, будущее это, галлюцинация или просто игры лесных нимф. Всяко не убьют. Это будет слишком нелепо и невероятно даже для него, даже после вида Стива после испытания неведомой чертовщины.
Джеймс Барнс пока – еще – уже – неважно – не знает, что он всего лишь особо ценный образец, редкое сырье, типа метала в капитанском щите. Джеймс Барнс ничего не знает о собственной судьбе и будущем. Впервые, ему кажется, что так оно лучше. А ведь всегда было интересно заглянуть за пределы времени на десять лет вперед, узнать, как там близкие и он сам; или выйти за пределы пространства и как Герберт Уэллс узнать, какими могут быть люди других планет и какие они вообще – эти планеты. Кажется, сейчас есть возможность воплотить кусочек этой мечты.
Но Джеймс чувствует холод, как будто попал в ледяную пустыню в разгар зимы. Джеймс Барнс слушает тихий и спокойный голос. Свой голос. Криво улыбается. Это сумасшествие, для которого еще не придумали названия. Может, потом придумают?
А вопрос, на самом деле, страшный. Потому что это не вопрос, утверждение. Потому что человек напротив – прав. Убивать стало проще. Вся та хрень, что творилась и мучила Барнса каким-то неосознанием с самого первого боя после плена раскрылась в одной простой фразе. Убивать стало проще. Элементарный ответ. А Баки из Бруклина, похоже, уже нет. Есть сержант Джеймс Барнс. И кажется, Баки из Бруклина уже не вернется. Никогда. В конце концов, кто поймет человека лучше, чем он сам, но немного старше? Джеймс просто кивает в ответ. Он и чувствует, и признает, наконец.
У него хватает чести и честности не лгать. Он успеет еще испугаться и попытаться понять, что с ним происходит. Потому что то, что происходит сейчас еще невероятнее. Потому что уже не хочется даже думать. Это невероятно и это было бы здорово и восхитительно. Если бы Джеймс не увидел глаз. Барнс думает, когда это стало так легко. Когда по его глазам стало возможно прочитать только правду, а не то лукавое тепло, с которым он старается смотреть на людей. Джеймсу страшно говорить и невероятно хочется спросить. У Джеймса все же есть и осталось даже на этой чертовой войне, что он не хочет потерять. Не может. А человек с его повзрослевшим лицом, такое чувство, может подписать приговор.
Который не подлежит обжалованию и опротестованию. Кажется, его будет не отменить. Барнсу просто хочется открыть глаза и не увидеть напротив… да никого напротив не увидеть. Кажется, это бесполезно. Кажется, сука-судьба дает ему то ли шанс, то ли подсказки, то ли просто время подготовиться. Только вот к чему?
Баки не курица-наседка и никогда ей не был, как бы не считал Стив в тридцать третьем. Баки умеет относиться к другим, пусть даже слабым физически или, например, чернокожим, или даже французам, как к равным. Без скидок и снисхождения. Баки взрослый и, видимо, когда-то сумел стать хорошим другом. Но Баки гордится тем, что взрослый и к себе тоже не хочет ни снисхождения, ни жалости, ни попыток смягчить правду. Он все равно спросит с кривой улыбкой, вот она, уже на лице. Потому что убегать глупо. Убегать от себя и правды – глупее в сотни раз.
Барнс открывает глаза. Взгляд у него на удивление ясный и спокойный. Доброжелательный. За те несколько секунд, что он застыл лицом к небу, он успел решить. Хотя бы что-то. Пускай только на сегодня. Джеймс Барнс, которого почти все зовут «Баки», выбирает не бояться. И не делать поспешных выводов. И просто быть.
А это осуществимо, даже несмотря на ледяные глаза. Просто быть. Потому что он есть. И человек напротив – он – будет. У него движения совершеннее, у него злее улыбка, которую и за усмешку принять трудно. Но он есть. Просто и банально. Потому что человек напротив пугает, кажется, специально. Потому что, к черту все! Баки наконец спокойно. Его будущее пришло настучать ему по голове, что невероятно; или он все-таки упился, или просто свихнулся – неважно. Это сюрреализм. И в общем, это все просто нелепо и смешно. Поэтому становится спокойно, хотя минутой раньше было чертовски страшно.
- А Говард уже создал свою летающую машину? – это самый дурной и нелепый вопрос, он не к месту и есть куда больше гораздо более важных тем. Но Барнс улыбается. Ему и правда интересно. Сержанту не хочется о войне, или смертях. Уж лучше так. Сержант улыбается – и эта улыбка беззаботного, счастливого Баки из Бруклина. Живая еще, настоящая.
О серьезном спрашивать и хочется, что называется, и колется. Но почему бы и нет? В конце концов, он не просил об этой встрече. Так что рок и судьба явно не против. Но труднее другое, а что, собственно, спрашивать?
- Если война закончилась… Все Воюющие остались целы? – потому что это самое важное. Чтобы и Стив, и Монти, и Жак, и Джим, и Дум-Дум. Просто были живы. – Или мы кого-то похороним?
Джеймс не знает своей судьбы. Ему и не надо. И неважно, что глаза ледяные. Друзья – важнее. Просто чтобы все было не зря. Просто чтобы установка не умирать помогла не умереть не только ему.
Джеймс «Баки» Барнс снова надеется. Сильнее и больше. И старается не замечать другого, самого страшного, самого правильного вопроса. Что со мной – с тобой – случилось?
Нас взрывная волна раскидала флажками по карте,
И не всем суждено уцелеть, дотянуть до погон.
Одному уготовано место во братском плацкарте,
А другому судьбой забронирован спальный вагон. | Я б военный билет променял бы на послевоенный,
Всё б отдал, что имею - сто грамм и солдатский паёк...
Но как личные судьбы впадают в поток поколенный,
В эту общую чашу вливается горе моё. |
Баки Барнс всегда был хорошим другом. У Баки Барнса два номера – на груди и на руке. Сегодня ему дан шанс то ли перекроить судьбу, то ли просто подготовиться. Они первые, но их будет больше. И некоторые будут даже не отчеканены цифрами, а просто кодовыми именами.
Все началось не сегодня. Все началось, когда слепой случай выбрал его имя из списков призывников. И присвоил ему номер. Тогда еще – самый первый.
3-2-5-5-7-0-3-8
Джеймс, как бы ни было страшно, безмятежно улыбается своему страшному будущему. На этот раз – буквально.

| Все посмертно равны - патриоты и космополиты;
Дезертиров у времени нет: поезд мчит до конца.
По сосудам земли все мы массой единой разлиты,
Тащим к дырам планеты свои кровяные тельца.
Я б военный билет сдал обратно в дорожную кассу,
Обменял бы на память идущие в сердце бои...
Но солдат безымянный с пробитой звездою на каске
В незакрытых глазах прячет званье и имя - мои. |