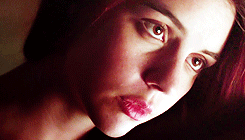[SGN]

И запомни: твоё бессмертие — это рок, куда ни ушел бы ты.
Но любое несчастье выдержишь, потому что тебя хранят
Первый тихий аккорд полуночи, и июньского леса шепоты;
А за левым плечом, по жребию, обязательно буду я.[/SGN][AVA]http://se.uploads.ru/BvfTw.gif[/AVA][NIC]Summer Brennan[/NIC] Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей,
У всех золотых знамён, у всех мечей,
Я ключи закину и псов прогоню с крыльца —
Оттого что в земной ночи́ я вернее пса.
Плотную духоту летнего утра с усилием разорвал низкий рокот грома, пробежавшего по тяжелым облакам, а спустя буквально секунду с неба хлынул сплошной поток воды, от которого не спасали даже зонты. Люди стали быстрее сновать по улицам, перепрыгивая лужи и прижимая к груди папки и сумки. Дождь принес долгожданную прохладу, и радоваться этому хотелось только первые несколько часов. А дождь всё лил. Шум капель усыплял, погода совершенно не располагала к работе. Саммер украдкой зевала, поглядывая на часы. В такую погоду после долгого рабочего дня хорошо было бы заскочить в Dunkin' Donuts на углу улицы, купить разных пончиков, а потом забраться под одеяло с чашкой горячего чая и посмотреть "Настоящую Маккой", уже выученную почти наизусть. Но в расписании Бреннан не было места ни фильмам, ни пончикам, вместо Dunkin' Donuts на углу дома ее ждала небольшая цветочная лавка вниз по улице, вместо уютной кровати — мягкий потертый стул в палате городской больницы, и вместо плазменного телевизора и любимого фильма — мониторы, отслеживающие жизненные показатели Ричарда.
Без изменений.
Уже полгода без изменений. Саммер знала, что это значило. И если первые недели отсутствие ухудшения в состоянии Ричарда вселяло хоть какую-то надежду, то по прошествии нескольких месяцев из рук Бреннан ускользнула и эта ниточка, оставляя стоять на краю пропасти и беспомощно смотреть на другой край, думая о том, что легче с разбегу — и камнем вниз. Бессилие сжигало изнутри. Хотелось подскочить к неподвижно лежащему брату и хорошенько встряхнуть его, потребовать бороться, сделать хоть что-нибудь, снова запустить будто поставленную на паузу жизнь. Но ничего не происходило. Ричард все так же был в коме, а Саммер, точно ее жизнь тоже остановили, продолжала приходить к нему.
Она следила за состоянием брата, звонила родителям, чтобы сообщить, что все так же, все по-прежнему без изменений, предлагала Энтони не приходить лишний раз. "Не мучай себя", — говорила она. Я мучаюсь сполна. Саммер понимала, что зря терзает себя, что ей нужно отучиться каждый день приходить в городскую больницу, начать жить с пониманием того, что Ричард может не очнуться, что он вероятнее всего не очнется, начать хотя бы просто жить, а не нырять в работу с головой, чтобы прийти вечером в палату к брату, устроиться на стуле рядом с больничной кроватью, читать истории болезни, что-то рассказывать, будто веря, что он может услышать. После того, как Тревор разорвал помолвку, делать в пустой квартире, наполненной искусственными голосами из постоянно включенного телевизора, стало совсем нечего. Саммер все чаще стала ночевать в больнице. Иногда на стуле совсем рядом, иногда — в кресле у окна. Когда становилось совсем плохо, Бреннан осторожно забиралась на край больничной койки, легко прижимаясь спиной к Ричарду, и засыпала так.
Ее довольно быстро стали узнавать в больнице. С ней здоровались врачи, медсестры, рабочий персонал, она успела познакомиться с некоторыми пациентами, дождаться их выписки и встретить новых. А в цветочном магазине вниз по улице Саммер уже пару месяцев продавали цветы за копейки. Несложно было догадаться, кому месяц за месяцем она покупает цветы, слишком часто в том магазинчике видели такие взгляды — усталые, пустые, вымотанные ожиданием, которое ни к чему не ведет.
В какой-то момент Саммер вовсе перестала плакать. Она и так делала это украдкой, чтобы не расстраивать мать еще больше, хотя, казалось бы, куда уж. Но Бреннан старалась быть сильной для семьи, это казалось единственным выходом, единственным, что удерживало ее на поверхности, держало на плаву. Семья, ради них Саммер была готова раз за разом рассказывать о том, что Ричарду не лучше, опять и опять общаться с врачами по просьбе матери и улыбаться, хотя хотелось забиться в угол и никогда не открывать глаза. Но потом слезы ушли, будто выплаканные все, а сама девушка начала погружаться в отупляющую пустоту.
Иногда в палату заглядывали добросердечные медсестры или бывшие сокурсники, приносили кофе и что-нибудь поесть. "Уже поздно", — говорили они, и Саммер понимала, что они имеют в виду вовсе не цифры на часах. Они говорят о Ричарде. Уже поздно надеяться, поздно ждать, что он очнется, поздно для слов, сожалений и обещаний. И Бреннан понимала это, как никто другой, она сама говорила своим пациентам, что нужно двигаться вперед, что бы ни было в прошлом, нужно уметь отпускать, не давать тянуть себя назад. И теперь она сама никак не могла отпустить. Прошло уже больше полугода. Надежда таяла с каждым днем.
Так и сегодня Саммер пришла в больницу, привычно поздоровалась со знакомыми, проигнорировала сочувственные взгляды в спину и проскользнула в палату. Она каждый раз стучала прежде, чем войти, так отчаянно глупо надеясь, что услышит хриплый, как после сна, голос Ричарда, который разрешит ей войти. Стучала и замирала, будто с размаху налетая на гробовую тишину за дверью, а потом упрямо трясла головой и заходила внутрь, бросала на пол сумку, меняла цветы в вазе и словно нехотя смотрела на мониторы, только чтобы в очередной раз не увидеть на них изменений. Бреннан злилась на себя за то, что никак не может вырваться из этого круга ада, вернуться к жизни, что она сама словно погруженная в кому, недоступная для внешнего мира, но и не представляла, как можно поступать иначе. Как можно бросить Ричарда одного бороться с болью, с травмами, с комой, как можно оставить его без присмотра. Как можно без него жить.
Она довольно быстро задремала под монотонный шум дождя, сидя на стуле рядом с кроватью. Долгий рабочий день и переживания за брата высасывали из нее силы на глазах, Саммер чахла, увядала, будто яркие цветы в вазе на тумбочке. Ей не хотелось просыпаться, не хотелось возвращаться в реальность, и она не знала, что хуже — открывать глаза дома и только через секунду вспоминать, что купленные для нее с братом семь месяцев назад билеты в кино так и пылятся на тумбочке в прихожей, или просыпаться в больнице от тихой трели будильника на телефоне и первое, что видеть — Ричард, в проводах, иголках, окруженный мониторами и вязким чувством безнадежности.
Из сна Саммер выдернул надтреснутый голос, зовущий ее по имени. Она едва заметно вздрогнула и распахнула глаза, узнавая. Она слишком давно не слышала этого голоса, чтобы не узнать его даже таким — слабым, искаженным, будто записанным на испорченную пленку.
— Ричард, — Бреннан произнесла это еще до того, как полностью осознала, что произошло. Она смотрела, смотрела, смотрела на брата и никак не могла оторвать взгляд, от ожившей мимики, от темных глаз, как же она истосковалась по этому лицу, по жизни в нем — еще едва теплящейся на дне глаз, но уже согревающей вымороженную месяцами ожиданий душу Саммер. Она поймала руку Ричарда, прежде чем он успел ее убрать, отчаянно прижавшись губами к костяшкам пальцев, целуя почти невесомо. У нее были сухие губы, а ладонь мужчины пахла чистыми больничными простынями, лекарствами (невесть какими, всеми вместе и ни одним), в запахе которых почти растворился его собственный. — Я здесь.
Я всегда здесь.
И Саммер заплакала.
Облегчение волнами накатывало, перехватывало дыхание, давило обжигающим теплом на клетку ребер. Ей хотелось сказать так много, что она не могла найти нужных слов, и в то же время хотелось молчать, только слушать такой родной голос, пить его, подобно тому, как умирающий от жажды припадает к живительной влаге, пьет большими глотками, проливая, давясь. Семь месяцев ожидания, страха, тоски накатили единой волной в последний раз и схлынули. Саммер плакала и улыбалась, слезы скапливались в уголках рта, она плакала от счастья, от любви, от усталости, отпуская себя. Больше не нужно было храбриться, не нужно было каждый день находить в себе силы жить. Летняя пташка отряхнула перышки и расправила в миг зажившие крылья. Бреннан думала, что нужно позвать кого-нибудь из врачей, а еще раньше нужно позвонить семье, позвонить Энтони, чтобы он приехал, чтобы увидел, поверил в это чудо, но она не находила в себе сил отпустить руку брата, не сейчас, только не опять, будто он мог вскочить, улететь, упорхнуть, опять вернуться к своим мотоциклам, к скорости. Опять оставить ее.
— Чёртов идиот! Я сожгу твой мотоцикл у тебя на глазах, как только тебя отсюда выпустят, — и голос зазвенел от отчаяния, медленно выжигавшего Саммер изнутри все эти месяцы, от нежности, от боли, от любви. Она попыталась укоризненно нахмурить брови, как делала это всегда, когда братья совершали глупость, но только сильнее заплакала, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Ей было поразительно легко, будто она могла взлететь, стоило только оттолкнуться от земли. После долгой и холодной зимы в ее душе, наконец, наступила весна. — Тебе повезло, что ты едва живой, а то я бы дала тебе пинка. Не смей больше так меня пугать. Не смей!
В ней было слишком много слов, слишком много эмоций и чувств, которые никак не могли найти выход. Силы оставили ее, потраченные все, исчерпанные. Она умолкла, глядя на брата, поглаживая дрожащими пальцами его ладонь. Саммер казалось, что она никогда не любила его сильнее, чем в этот момент. Что она никого так не любила.